«Я на стороне пассажира». Большое интервью с начальником петербургского метро - о прошлом, настоящем и будущем
«Я на стороне пассажира». Большое интервью с начальником петербургского метро - о прошлом, настоящем и будущем

Пресс-служба Петербургского метрополитена
Петербургскому метрополитену исполняется 70 лет - первые станции открылись в 1955 году. «Фонтанка» поговорила с начальником городской подземки Евгением
Козиным о том, чем живет самый популярный транспорт города, почему закрывают станции и какая из них дороже всех ему лично.
«Мы выдерживаем баланс». О развитии и преодолении
- Евгений Германович, человек может встретить 70-летие в разной форме. А в какой форме к дате подходит петербургская подземка?
- Мы с вами говорим в день, когда на первой линии произошел сбой (беседа состоялась 16 октября, когда на красной линии закрывали станции и увеличивали интервалы движения из-за поломки состава. - Прим. ред.). Перестроиться сложно, но это лишний повод сказать, что, какие бы ни были за историю работы Ленинградского - Петербургского метрополитена трудности, я уверен, что трудовой коллектив справится со всеми вызовами. И свою задачу, собственно, вижу в том, чтобы мотивировать сотрудников, чтобы они понимали - мы работаем для пассажира.
Это те ценности, которые культивируются здесь с момента открытия Ленинградского метрополитена, а развивается он на основании преемственности поколений - и, конечно, технических новшеств. Но параллельно и пассажиры предъявляют все более высокие требования к качеству перевозки и к качеству информирования: им важно, чтобы в случае каких-то сбоев до них четко донесли, как скомпенсировать маршрут, обеспечили удобную - и недорогую за счет соответствующего тарифа - пересадку. Мы работаем и для гостей города, развиваем наш информационно-справочный центр; конечно, особенный скачок был во время чемпионата мира по футболу, когда мы организовывали информирование пассажиров на нескольких иностранных языках.
Не так давно мы подписали соглашение, инклюзивный договор, по которому обеспечиваем максимальную доступность для всех категорий граждан, включая и лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Так как инфраструктура, по большей части, проектировалась и создавалась еще в прошлом веке, мы создали специальную дистанцию обеспечения мобильности и заранее оповещаем всех заинтересованных об этой услуге.
То есть если обобщать, то метрополитен находится в стадии перехода от лекал технической эксплуатации, которые были заложены еще в Советском Союзе, к условиям уже современной России. Но не на пустом месте, а за счет опыта, накопленного поколениями с 1935 и 1955 годов, когда открывались метрополитены Москвы и Ленинграда.
- А есть в этом опыте что-то, что приходится не развивать, а преодолевать?
- На самом деле Ленинградский метрополитен был для своего времени передовым, в нем было сделано очень много наработок, внедрено очень много новшеств. Самое очевидное - станции закрытого типа, которые впервые у нас появились. Но все движется вперед. Мы в прошлом веке внедряли технологии автоматики, телемеханики движения поездов, которые строились на тогдашнем этапе развития оборудования, релейно-контактных систем, управления движением поездов, эскалаторного оборудования.
Сейчас с развитием микропроцессорных технологий и вообще в целом систем предиктивной аналитики необходимо более активно внедрять эти методы и способы управления. Работая с крупными компаниями, мы вырабатываем технические задания для возможности перехода на современную технику, в этом участвуют ведущие научные учреждения, которые в Санкт-Петербурге очень широко представлены.
Но иногда - и это касается всех заинтересованных метрополитенов - нормативы постройки метро не учитывают такое бурное развитие технологий. И если вы использовали слово «преодолевать», то вот, наверное, об этом речь. Мы бы и рады заложить в техзадание на стадии проектирования новых станций возможности для установки современного оборудования, но оно не регламентировано действующими нормами. Значит, эти нормы надо тоже менять. Разумеется, чтобы это обосновать, мы проводим подконтрольную эксплуатацию и только после заключения экспертов выходим с предложением об изменениях.
Надо понимать, что приоритетом советских метрополитенов всегда была безопасность. И здесь я точно могу сказать, что мы находимся на уровне лучших мировых
предприятий отрасли. Понятно, что у нас не внедрены беспилотные технологии так, как они внедряются в том же Китае. И поэтому можно сказать - вот, вы отстаете. Но развитие беспилотия - это одновременно снижение контроля. И мне кажется, мы выдерживаем баланс - не перестраховываемся, но и не делаем чего-то в ущерб безопасности.
- У вас есть с чем сравнить, вы пришли в метро еще в 90-х. Что изменилось с тех пор - если отвлечься от понятного технического прогресса?
- Страна изменилась. В 90-е годы мы работали по правилам технической эксплуатации, утвержденным еще для Советского Союза, хотя они были переизданы для Российской Федерации. С тех пор Госдума приняла примерно 8-9 тысяч нормативных законодательных актов, которые так или иначе распространяют свое действие на метрополитены, на внеуличный транспорт.
Неправильно говорить, что тогда было проще работать. Но, конечно, сейчас инженер должен обладать не только отраслевыми навыками, он должен знать законодательство, знать его трактовки. Например, транспортной безопасности в 90-х годах вообще не было как отдельного направления: ты прошел к турникету, бросил жетон и поехал. Она появилась, когда страна столкнулась с современными вызовами. Сейчас - рамки, выборочный досмотр. В 90-е годы оборот подвижного состава на конечных станциях укладывался буквально в минуту - выехали, и все. А сейчас есть нормы по обязательному осмотру вагонов перед оборотом, по организации обязательных осмотров подразделениями транспортной безопасности.
Ну и город развился. В 90-х существовало ограничение на строительство над тоннелями. Но сейчас идет активная жилая застройка, и этих охранных зон больше нет. Понятно, что город таким образом вовлекает в оборот земли, получает налоги. Но в то же время уже были случаи, когда метрополитены ловили у себя в тоннелях какие-то сваи, возникали другие аварийные ситуации (из недавнего - в 2023 году произошла протечка на Большой кольцевой линии в Москве из-за строительных работ на поверхности. - Прим. ред.).
Изменилась информационная среда - теперь информирование более дружелюбно с точки зрения носителей, указателей. А вот что не изменилось, так это социальная сфера, которая всегда была развита в нашем метрополитене. Когда я молодой пришел сюда работать, я не сильно обращал на это внимание. А теперь как начальник я вижу, что мы единственный метрополитен, сохранивший, не распродавший свои социальные объекты: пионерский лагерь в Рощино, санаторий «Балтийский берег», где мы сейчас проводим работы по реконструкции, база «Оредеж» в Ленинградской области и база в Кабардинке на берегу Черного моря. Коллеги нам по-белому завидуют.
- А вам эта социальная составляющая помогает чувствовать себя спокойно в кадровом смысле? Или у вас те же проблемы, что у остальных перевозчиков, - не хватает людей?
- Проблемы все те же. Действительно, сейчас при относительно низком проценте безработицы в Петербургском метрополитене мы наблюдаем определенный недокомплект. Он, конечно, стал следствием пандемии, когда многие открыли для себя удаленную работу и когда мы сильно просели по пассажиропотоку, до сих пор не можем догнать 2019 год.
Мы принимаем меры по восполнению нашего кадрового потенциала. В первую очередь, конечно, работаем с профильными колледжами и более активно смотрим в сторону целевого приема, как по специалистам рабочих профессий, так и по специалистам с высшим образованием.
При этом понимаем, что нам необходимо и компетенции наших сотрудников наращивать, повышать производительность. В том числе, как я говорил, за счет технологий. Повторюсь, предиктивная диагностика через автоматический сбор данных - это будущее. И это позволит уйти от планово-предупредительного ремонта к обслуживанию подвижного состава и инфраструктуры по их актуальному состоянию прямо на данный момент. Но и для этого необходимо поменять регламенты.
Вагоны, которые жгут. О сквозных переходах и новых поездах
- Есть классическое сравнение Петербурга и Москвы по скорости строительства метро с понятным результатом. Но так как вы за стройку не отвечаете, я спрошу вас именно как перевозчика: какой из городов впереди?
- Я человек заинтересованный, и с моей стороны было бы некорректно сравнивать. Но хочется сделать акцент на том, что семья метрополитенов, которая создавалась в советскую эпоху, на сегодняшний момент так и осталась семьей. Мы имеем возможность обмениваться опытом и технологиями на площадке Международной ассоциации «Метро» и в рамках «Ассоциации работодателей внеуличного транспорта России».
Вот петербургский машинист отправился только что в Новосибирск, куда привозят подвижной состав, аналогичный нашему «Балтийцу», - «Ермак»: наш специалист передавал опыт управления и обслуживания поездов.
Москвичи делегируют к нам специалистов по транспортной безопасности, а мы у них знакомимся с опытом ведения делопроизводства. В то же время мы консультируем их по переходу на отечественное программное обеспечение, которым сейчас занимаемся, - уходим c SAP на «Галактику». То есть у нас есть возможность брать лучшее от других метрополитенов и делиться своим опытом.

Пресс-служба Петербургского метрополитена
- Вы меня последними словами сами подталкиваете к вопросу о вагонах со сквозным проходом и кондиционерами: тот московский, и не только, опыт, который Петербург настойчиво не хочет перенимать. Сама подземка и чиновники объясняли почему, но многие считают, что метро просто не хочет тратиться и «заморачиваться».
- Ну давайте по порядку. Кондиционеры. Здесь мы исходим из следующего: есть нормативы по параметрам микроклимата, воздушной среды, температуры, влажности воздуха, они общие для Петербурга и Москвы. Эти нормативы у нас на метрополитене соблюдаются.
Бóльшая часть наших подземных сооружений расположена на большой глубине. И мы видим, что если дополнительно сейчас будем оснащать составы системами кондиционирования, то избыточное тепло от наружных блоков, условно говоря, будет выдаваться в тоннели. Наш новый подвижной состав - «Балтийцы» - и так уже вырабатывает его больше, чем, скажем, вагоны 81-й серии или «Ем». И система тоннельной вентиляции, которая проектировалась в советский период, не позволит нам отвести это лишнее тепло.
То есть параметры микроклимата в тоннеле изменятся в худшую сторону, если мы еще и навесим кондиционеры. Поэтому нам необходимо разрабатывать - и мы этим занимаемся совместно с поставщиками подвижного состава - новые системы приточно-вытяжной вентиляции.
- А отказ от межвагонных переходов - по соображениям той самой безопасности, о которой вы говорили?
- Теперь что касается переходов. Наши 8-вагонные составы вмещают 1476 человек. И вот эти самые переходы, о которых вы спрашиваете, позволят увеличить вместимость поезда - внимание - на 16-18 человек. Это если про эффект.
Второе: требования пожарной безопасности говорят о необходимости сжечь в камере вагон, чтобы подтвердить требуемый класс по огнестойкости.
- Что значит сжечь в камере?
- Это буквально означает, что изготавливается вагон и сжигается в камере. По итогам этой процедуры измеряются характеристики по пожарной стойкости. Вот я знаю, что современные вагоны без проходов сжигались и на них получали соответствующие заключения. По вагонам со сквозными проходами у меня такой информации нет.
Плюс к этому - затраты на обслуживание межвагонных переходов, конечно, выше. И вот совокупность этих факторов, а не только соображения экономии, говорят нам, что сейчас нет необходимости эксплуатировать «сквозные» составы.
- Возвращаясь к современным составам нашего метро. Сейчас «Балтийцами» доукомплектована красная линия. Правильно ли я понимаю, что теперь самая старая синяя?
- Все так, но первые вагоны для нее уже изготавливаются. Готовится состав для пятой линии, а также для новой шестой, первый участок которой откроют в ближайшее время.
- Третья, «футбольная» считается молодой?
- Ее не трогаем пока, да.
- В расчете большого контракта до 2031 года, по которому «Балтийцев» поставляют в Петербург, было 950 вагонов. Но при этом применялась формула цены: то есть фиксирована только общая стоимость порядка 240 млрд рублей, а составы могут дорожать. Сколько в итоге удастся привезти по действующему контракту?
- Порядка 700. Но мы, конечно, заявляем дополнительную потребность: компенсировать все выбывающие вагоны и обеспечить новые пуски - до 2030 года, как вы помните, планируется открыть 10 станций. Так что мы рассчитываем на новый контракт.
- А что бы вы добавили в техзадание на новые вагоны?
- В ходе работы с производителем мы и так добавляем некоторые характеристики. Как я уже говорил, усовершенствование приточно-вытяжной вентиляции - посмотреть на компоновку воздуховодов. Обеспечение параметров по шуму в салоне. Основные вещи вроде приводов или системы рекуперации нас устраивают. Вот разве что размышляли над установкой накопителей на подвижном составе, чтобы можно было в случае пропажи напряжения на контактном рельсе вывести состав с линии на автономном ходе. Но на отечественном рынке мы пока, пожалуй, не видим подходящего производителя под эту задачу.
Сейф Скруджа МакДака. Про оплату и закрытие станций
- Мы с вам уже говорили про технические новшества. Они относятся не только к вагонам или стрелкам, но и к пользовательской части. Вы верите, что оплата проезда «лицом», то есть по биометрии, приживется в подземке? Или она останется игрушкой для самых продвинутых и тех, кто не боится показывать свое лицо и свои передвижения в камеру?
- Пассажиры должны понимать, что в вестибюле метро камеры и так есть - по соображениям безопасности. Конечно, развитие биометрических способов оплаты сильно бы эту безопасность увеличило.
Второй момент - неплательщики. Мы видим, что в последнее время появилась мода на безбилетный проезд...
- Но она же всегда была. Сколько себя помню, подростки всегда прыгали через турникеты.
- Это правда, просто сейчас различные социальные сети позволяют размещать ролики с таким поведением и на этом зарабатывать какие-то очки в виде лайков, одобрения. И в определенном сегменте молодежной среды это считается вроде как хорошим тоном.
Весной 2025 года в Сети завирусились видео с группами подростков, которые массово перепрыгивали через турникеты при входе в петербургское метро. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Впоследствии молодых людей задержали и передали сотрудникам полиции.
При этом мы, кстати, не видим увеличения числа «зайцев». Все-таки люди в форме подразделения транспортной безопасности, а тем более полиции, молодежь дисциплинируют. Но резонанса стало больше.
Я к тому, что биометрия решила бы и вопрос справедливой оплаты проезда. В первую очередь - для индивидуальных льгот. Потому что сейчас мы как верифицируем льготника? По документам. И видим, что по пенсионному пытаются проходить молодые люди. А если привязать биометрию к именному билету, все бы радикально изменилось, идентификация льготы ускорилась бы. Но, конечно, все это можно запускать, когда технология позволит пропускать людей по камере без задержек (ранее в комтрансе сообщали, что пока на распознавание уходит 3-4 секунды, а требование перевозчика - 1,5-1,8 секунды).
- А жетоны - еще один символ петербургского метро? Вы не собираетесь от них отказаться, например, в пользу одноразовых билетов с QR-кодом? Нам же говорят, что разовыми поездками пользуются считаные проценты пассажиров.
- Да, несмотря на то что небольшой процент пользуется жетонами, Петербург все-таки город туристический, и мы фиксируем периоды, когда жетоны востребованы. Кто-то покупает их как сувениры. Но и для нас это удобная и дешевая технология, они имеют должную степень защиты, подделок почти нет. Ну и вы правы - это определенный бренд нашего Ленинградского - Петербургского метрополитена.
- А у вас хватит жетонов, чтобы обеспечить всех пассажиров в случае «восстания машин»? У вас есть где-то такой стратегический огромный сейф, как у Скруджа МакДака?
- Да, хватит. Есть хранилище, и нам вполне хватит жетонов на оборот пассажиров.
- Если говорить о пассажирах, то их, конечно, куда больше биометрии беспокоит непредсказуемое закрытие станций, которое время от времени происходит. С чем это связано и кто принимает такие решения?
- Принимает решение дежурный по станции исходя из фактического наполнения пассажирских платформ. Это сложное решение, дежурные сверяются с диспетчером по линии, чтобы понять прогноз по потоку. И конечно, все будет легче, когда мы перейдем к логике управления не линиями метрополитена, а всей сетью. Это произойдет, когда мы введем в строй Единый диспетчерский центр (на реконструированной станции метро «Фрунзенская». - Прим. ред.) и так называемый супервайзер, или главный поездной сменный диспетчер, который будет находиться в едином диспетчерском круге, будет оценивать обстановку по всему метрополитену. И исходить из оперативной информации в том числе по другим видам городского общественного транспорта, которая будет в центр стекаться.
Скажем, мы понимаем, что возможен дополнительный приток на тот или иной вестибюль, из-за того, что где-то сбит трамвайный маршрут или автобус остановился там. Диспетчер дает команду на ближайших станциях смотреть за пассажиропотоком и оперативно реагировать в случае, если идет превышение. В том числе - информировать наземщиков о необходимости усилить соответствующие маршруты.
- Вы говорите, что с ковида мы так и не вернулись по пассажиропотоку к 2019 году. Но случаев закрытия станций из-за превышения нормативной нагрузки как будто стало больше. Регламенты изменились?
- Довольно большая часть связана с остановками эскалаторов. Для понимания - у нас в метро чуть больше 300 эскалаторов. Из общей массы остановок по технической причине в среднем на каждом что-то происходит примерно раз в год - от ослабления цепи до неисправности реле. А вот остальные 97 % случаев - это попавшая внутрь монетка, падение пассажира или застрявшая одежда. То есть практически ежедневно в среднем есть сигнал с одной из станций. Иногда это выпадает на час пик. Иногда на станции с тремя эскалаторами один стоит на капремонте и вдруг сбоит один из двух оставшихся. Если оперативно устранить сбой не получается, приходится закрывать вестибюль.
Зачастую станции не закрывают, а ограничивают на вход. Например, во время массовых мероприятий. Мы готовимся к этому заранее и понимаем, что в какой-то момент из шести дверей надо будет закрыть три - просто чтобы платформы смогли всех вместить, а составы - всех увезти.
- Возвращаясь к эскалаторам. Была информация, что две трети из них работают с превышением срока, и это проблема не только Петербурга. Как вы оцениваете это хозяйство предприятия?
- У нас действительно много эскалаторов, у которых номинально превышен срок службы, заявленный производителем. Но есть механизм продления этого срока, и мы используем его, когда нет возможности закрыть станцию на полноценную реконструкцию с разработкой проекта. Разумеется, при этом проводится экспертиза промышленной безопасности, Ростехнадзор выдает официальное заключение. Обычно это продление сразу на 15 лет. За это время можно и проект разработать для замены машин, и провести его через госэкспертизу.
- Сейчас на синей линии закрыты сразу две станции, постоянно появляется информация о планах на ближайшие годы. Что у вас на 2026-й?
- Пока только «Озерки». Их хотели уводить на ремонт в 2025-м, но потом, как вы знаете, перенесли.
От «Пушкинской» до «Путиловской». Про прошлое и будущее
- В Петербурге отношение к метро не только как к транспортному предприятию, но и как к историческому наследию. Несколько лет назад мировая публика - вплоть до Илона Маска - впервые открыла для себя станцию «Автово». А у вас какая любимая станция?
- По-моему, я уже говорил где-то - у меня особые чувства к «Петроградской». Я родился и вырос на Петроградской стороне, это первая станция, на которую меня привезли родители. Мне она очень нравится с точки зрения такого аскетизма с одной стороны, а с другой - силуэты молодых людей на барельефе в торце напоминают мне о родителях.
И она, кстати, сочетала в себе элементы транспортно-пересадочного узла. Со стороны Кировского проспекта, ныне - Каменноостровского, нужно было спуститься в подземный переход, и ты мог воспользоваться несколькими вариантами попасть в вестибюль: либо по лестнице, либо по эскалатору малого подъема на пять с лишним метров. И дальше попадаешь в большой круглый зал и спускаешься вниз по эскалатору. То есть нестандартный маршрут. В 90-е годы эскалатор сняли, как и на станции «Рыбацкое». Да и на «Невском проспекте» второй каскад разобрали.
- А много потеряли из исторического убранства станций за время ремонтов?
- На самом деле нет, мы максимально сохраняем оригинальный облик. Понятно, что при строительстве первых станций применялись материалы, которые на сегодняшний день вряд ли можно достать. На том же «Кировском заводе» в начале нулевых мы по согласованию с автором-архитектором, которого удалось застать в здравии, заменили камень облицовки на мрамор «Уфалей». Просто потому, что оригинальный материал добывали на территории одной из бывших республик СССР, это уже другая страна.
Или, например, на станциях первого пуска на путевых стенах были так называемые «рыбки» - ромбы, в которых были написаны названия станций и которые указывали маршрут следования. Со временем система информирования менялась, их демонтировали.
Но есть обратные примеры. Например, панно на знаменитой станции «Пушкинская» позади памятника поэту. Его мы восстанавливали с привлечением специалистов Академии художеств, и они выполняли расчистку, потом восстановление и накладывали патину. Поэтому свежо смотрится это панно до сих пор.
Еще один момент, тоже по «Пушкинской». В первые годы, когда открылась станция, мраморная облицовка на пилонах среднего зала внизу на перронной части трещала и отскакивала. Именно поэтому сейчас - можно обратить внимание, - когда находишься на платформе, там такие медные пятаки, которыми дополнительно закрепили эту облицовку к несущему пилону, и таким образом мы сохранили ее. Смотрится это достаточно эстетично, и человеку со стороны может показаться, что так и было задумано
изначально.
- А у вас есть какая-то отдельная комиссия по восстановлению исторического облика?
- Нет, у нас эти полномочия и функции закреплены за соответствующим должностным лицом.
- Про музей метро. Есть мнение, что он переедет в новый АБК, который строится для выхода со станции метро «Лиговский проспект - 2». Это так?
- Мы рассматривали это как один из вариантов. Но поняли, что это будет очень беспокойное соседство, учитывая высокие требования, которые предъявляются в целом к комплексу зданий для обеспечения терминала ВСМ Петербург - Москва. Оценили доступность для людей, насколько будет там суетливая жизнь, как вокруг любого вокзала, и отказались от этого варианта.
- То есть все остается на местах: музей на Одоевского и экспозиция составов в депо «Южное»?
- Да, сохраняем так.
- А не было планов использовать под музей участок у станции «Парнас», который до сих пор у метрополитена на балансе?
- Для него на данный момент разрабатывается проект Технической школы метрополитена с полноценными классами. В них будут готовить специалистов по современным специальностям, в том числе по микропроцессорной технике, о которой мы говорили в начале беседы.
- Тогда еще один вопрос из начала интервью. Вы говорили об обеспечении доступа для маломобильных групп. В связи с этим вспоминается проект по созданию лифтовых шахт для станций глубокого заложения, как раз для таких пассажиров. Подобные примеры есть в Европе, да и у нас был предпроект несколько лет назад.
- Это рассматривалось в свете возможности включения новых обязательных требований в своды правил по проектированию метрополитенов. И на тот момент существовало определенное лобби, которое продвигало лифтовое оборудование для обеспечения такой высоты подъема и опускания. Но все-таки здравый смысл, на мой взгляд, восторжествовал.
Затраты высоки. Это же не просто пробить шахту, содержать ее, обеспечить гидроизоляцию. Нужно соорудить подходные выработки, обеспечить соответствующие узлы оплаты проезда, то есть создать целую инфраструктуру. На существующих станциях с учетом застройки города для этого просто нет места. А для новых, как мне кажется, это актуально лишь при мелком залегании.
- Поговорили о прошлом, давайте завершим мыслями о будущем. Вам в должности начальника Петербургского метрополитена пока довелось открыть лишь одну новую станцию. Для вас это больше радость или новая головная боль?
- Ответ нужно давать в зависимости от того, на чьей ты стороне. Я на стороне пассажира. А для пассажира любая новая станция - это благо, это возможность приблизить метро как один из самых удобных и комфортных видов внеуличного транспорта к своему дому.
Вот открытие новой Красносельско-Калининской линии, которое ждем в этом году, - это безусловный плюс для жителей, хотя, казалось бы, пока это всего один перегон. И это доказательство того, что кризис метростроения у нас пройден.
- А как вы будете ее эксплуатировать, учитывая, что это фактически отворотка от «Кировского завода» с помощью пересадочной «Путиловской» к «Юго-Западной»? Неужели часть поездов красной линии будет следовать, как обычно, к «Проспекту Ветеранов», а часть - к «Юго-Западной»?
- Нет, конечно. На «Путиловской» три стрелочных перевода. Один идет на соединительную ветку, которая стыкуется с «Нарвской». И с «Нарвской» мы выдаем с первой линии три состава «Балтиец» на Красносельско-Калининскую линию.
- То есть три коричневых состава, которые уже привезли на досборку, будут работать фактически только на коричневый перегон из двух станций?
- Да, они будут оборачиваться от «Путиловской» до «Юго-Западной» и будут работать в режиме полноценного оборота по обеим станциям. Но, конечно,
мы очень ждем депо, которое должно появиться за «Юго-Западной». Оно будет очень востребовано.
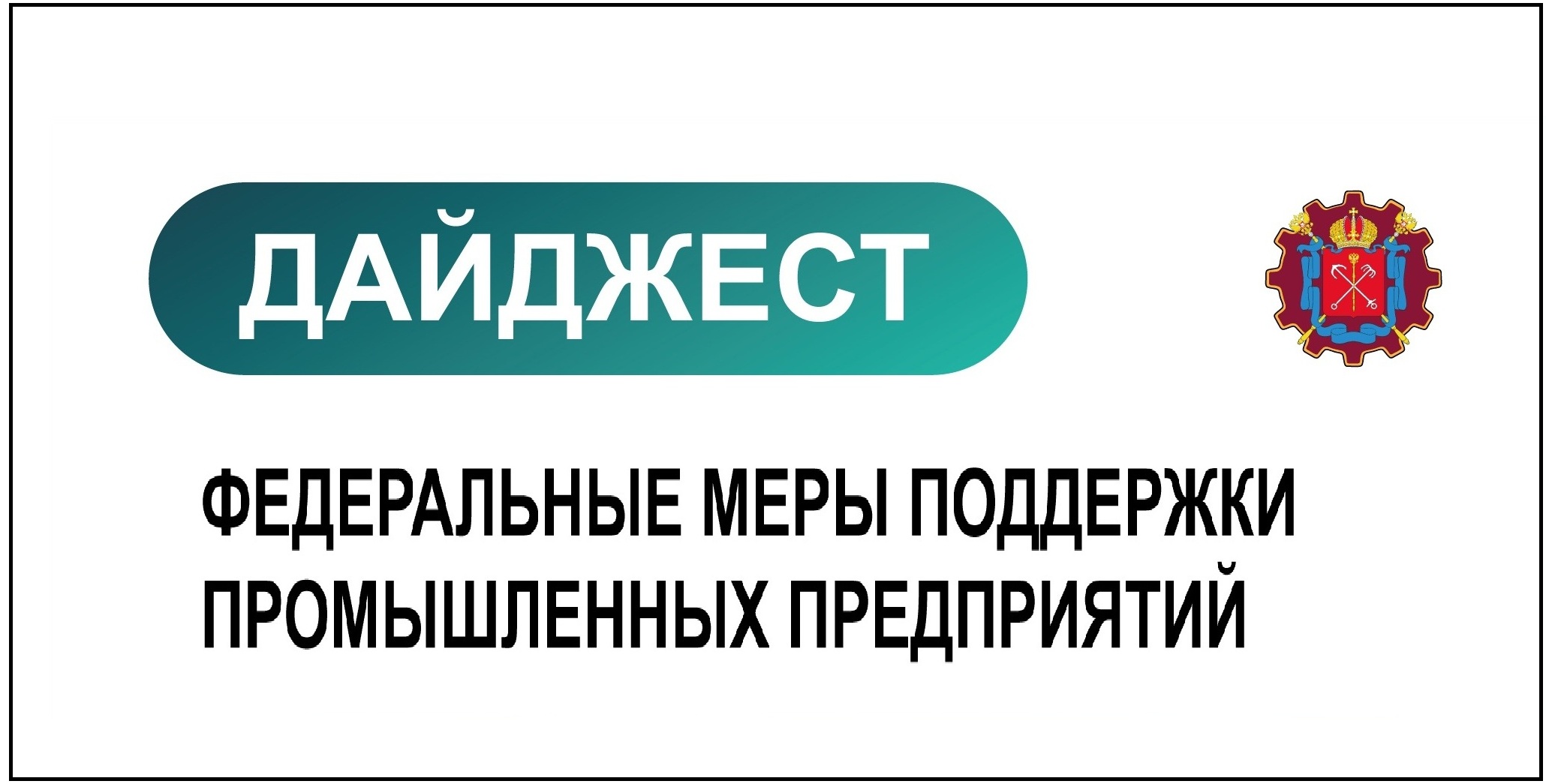



.jpg)




